1. Введение: кому нужна ре-ортодоксия?
Классическое православие (т.е. «ортодоксия» эпохи Вселенских Соборов) подошло к концу второго тысячелетия с серьёзным грузом проблем, неразрешимых в рамках привычных богословских формул и установок.
Ранее мной уже был предложен «набросок внутренней реформы» 1 с рядом конкретных шагов по «перезагрузке» православной духовности.
Ре-ортодоксия это способ «перезагрузки» классической ортодоксии без потери её сути жизни с Богом. Она предлагается тем, кто находится в процессе перехода от архаичных форм мышления к актуальным, которыми мы руководствуемся как современные люди.
Средневековые религиозные представления воспроизводили структуру социальных отношений своего времени и во многом отражали тогдашние мифологические и натурфилософские представления о человеческой природе. Например, болезни и стихийные бедствия чётко связывали с людскими грехами. Сегодня мы не можем не замечать того, что эта спекулятивная идея является пережитком античного мышления о богах и их страстных взаимоотношениях с людьми 2.
Ре-ортодоксия это разворот к реальному Богу, без каких-либо условий, якобы обязательных для богообщения, без стилизации под понравившийся эталон благочестия, без привязки к «истинной» церковной юрисдикции, санкционирующей передачу благодати и подлинность священнодействий.
Православие неоднородно. Одни проживают его как наследники и хранители чудесного феномена Античности и Средневековья, другие ориентируются на церковный уклад Синодального периода, третьи ищут Бога и взывают к Нему на языке современности, кто-то силится вобрать в себя всё одновременно. И, естественно, у православных различных типов религиозной жизни 3 кризис веры выглядит по-разному. При этом у подавляющего большинства православных никакого кризиса нет, и (слава Богу!) им неведомы проблемы, которые решает ре-ортодоксия.
Проект «перезагрузки» православной веры предназначен главным образом для тех, кто поверил либерально-православной проповеди ХХ века, голосами которой были прот. Александр Мень, прот. Александр Шмеман, С.И.Фудель, митр. Антоний Сурожский, прот. Иоанн Мейендорф, архим. Киприан (Керн), молодой диакон Андрей Кураев, проф. А.И.Осипов, прот. Алексей Уминский и др. Многие их слушатели, делая когда-то первые шаги в церковной среде, ожидали встретить некое «православие с человеческим лицом». Они поверили в то, что православие это про любовь, взаимоприятие, смирение и духовный путь свв. отцов Добротолюбия. Они надеялись, что период услужения всякой власти позади, что Церковь открыта к восприятию научных и культурных достижений человечества, что она «готова к принятию новых, может быть, более простых, форм богослужения, а лучше сказать, не «новых», а наиболее древних, первохристианских, принадлежащих тому времени, когда над миром поднялась заря Любви» 4, и т.д. и т.п.
Но историческое православие не собиралось меняться и не должно было меняться. Поэтому многим теперь приходится переосмысливать для себя понятие «православие»: одни обращаются к средневековым шаблонам Церкви и пользуются её наследием по своему усмотрению, применяя из многоликой традиции то, что им подходит в текущий момент, другие пытаются из позиции либерализма идти куда-то дальше
Чтобы не впасть в атеизм или агностицизм 5 (и то, и другое критически упрощает человека и мир), ре-ортодоксия делает шаг в сторону апофатической 6 части православного Предания. И хотя догматически это допустимый и верный шаг, последователей практической апофатики было крайне мало. Апофатические размышления в историческом православии остались инородным телом, не включённым ни в одно цельное богословское суждение.
Как и всякая подлинная апофатика, ре-ортодоксия не отрицает обрядовой и учительной части Предания. Она лишь меняет статус («музыкальный ключ») умозрительных положений богословия, выявляя их социально-психологическую и экзистенциальную природу, т.е. показывает, как они связаны с жизнью людей и их внутренним миром. Ре-ортодоксия отнимает только репрессивность каждого положения веры и религии. При этом и для отдельного человека, и для двух или трёх, собранных во имя Моё (ср. Мф.18:20), и для большой общины верующих Писание и Предание могут служить только полем встречи с Богом.
2. Принцип ре-ортодоксии
Ре-ортодоксия это возвращение к самым истокам, к самому началу духовного пути: к пути Савла в Дамаск, к пути Нафанаила к Иисусу, к пути отца, возопившего к Нему о вере. Это не является восстановлением какого-то утраченного нами «золотого века» христианства. Ре-ортодоксия это возможность, не стыдясь, ссылаться на личный опыт Бога подобно тому, как на него ссылался ап. Иоанн 7. Ре-ортодоксия ориентирована на то, «что было от начала, что мы слышали, что видели своими очами, что рассматривали и что осязали руки наши, о Слове жизни, ибо жизнь явилась, и мы видели и свидетельствуем, и возвещаем вам сию вечную жизнь, которая была у Отца и явилась нам» (1Ин.1:1-2).
Ре-ортодоксия предлагается как метод углубления православия. Любой религиозный тезис становится ре-ортодоксальным, если он начинается со слов «я решил, что» или «моя культура и личная история обусловили моё убеждение (или мою веру) в то, что» Это достигается поверкой данного тезиса простым вопросом «кто и каким образом это установил?»
Если человек считает, что положения его веры определила его личная психо-история (путь травм, защит и преодолений) и культура, в которой он рос, то он непричастен своим верованиям, так как за него сделали выбор традиция и случай. Осознание этого не даст ему спорить о правоте и обвинять другого. Потому что он понимает, что у того (другого) примерно та же картина созидания мировоззрения. В свою очередь, если человек считает, что объявить нечто священным его личное решение, то это святой волюнтаризм. И то, и другое ре-ортодоксально, потому как в обоих случаях человек осознанно обнаруживает основания (или безосновательность) своих и чужих религиозных убеждений.
Очевидно, что классический ортодокс находится в иной ситуации ему не нужно ничего осознавать и решать, за него уже всё решила «самая истинная» религиозная традиция. Для него истина очевидна или объективно доказана. В его картине мира обязательно положение об исключительности его религиозных истин, поэтому ему приходится всерьёз воевать за них и обвинять всех, кто им противоречит.
По своей сути, ре-ортодоксия всего лишь погружение к основаниям. Это как открыть капот автомобиля и разобраться в том, как там взаимодействуют механизмы. Если это не вызывает психологического сопротивления (не девальвирует «магию движения» автомобиля), то неплохо бы это знать. То же и с психикой человека, и с его религиозностью. Даже в личном осознанном решении «личность» и «осознанность» в основном состоят из культурных паттернов и индивидуальной психологической истории. Это вовсе не означает, что человек полностью механистичен (о чём заявлял Ж.Ламетри 8). Мы постулируем, что в человеке есть свобода воли. И хотя она минимальна, но для нас предельно значима.
3. Проверка на ре-ортодоксию
Ре-ортодоксия это личное свободное решение верить, при полном осознании того, что это верование невероятно, фантастично, случайно, регионально 9 и имеет против себя сильные аргументы. Т.е. «я решил верить вопреки очевидности того, что это абсурд или может быть чьей-то фантазией».
При попытке выяснить, кем и как это верование было установлено, обнаруживается, что у него нет твёрдых оснований, как и у всех прочих религиозных верований. Тот же, кто будет отстаивать вероятность или фактичность того или иного верования, встретится с противоположными научными доводами. Честность учёного вынудит христианина согласиться с безосно́вностью своих верований. Но вера христианина сохранит религиозные тезисы в качестве волюнтаристских тезисов ре-ортодоксии.
Итак, любой богословской идее предлагается вопрос «кто и как это установил?» Допустим, на вопрос «является ли Христос Богом?» один человек отвечает: «я решил, что является», а другой человек говорит: «за меня решила моя православная традиция, и мне проще согласиться с ней, чем сопротивляться». И в первом, и во втором случае мы видим достаточную степень осознанности, а значит, оба эти ответа ре-ортодоксальны.
Таким же ре-ортодоксальным является утверждение «я решил верить тому, что написано в Библии, а тому, что написано в Бхагаватгите, я решил не верить».
Рассмотрим пример того, как столкновение разных космогоний (весьма авторитетных и самоочевидных для многих народов, племён и времён) демонстрирует эту безосно́вность веры в любую конкретную модель творения неба и земли. Здесь возможен примерно такой диалог:
Ортодокс: «Бог сотворил небо и землю».
Ре-ортодокс: «Я этого ничуть не отрицаю. Вопрос: кто и как это установил?»
Ортодокс: «В Библии написано, что Моисею Сам Бог это сказал».
Ре-ортодокс: «А почему Вы не верите другим книгам, где тоже написано, что это сказал Сам Бог?»
Ортодокс: «Потому что я принадлежу определённой религиозной культуре. Традиция так определила, и я ей доверяю».
Ре-ортодокс: «Почему ей, а не другой?»
Ортодокс: «Эта мне ближе, а других я толком не знаю. Так сложилось»
Тот же результат мы можем получить, разбирая конфликты разных теологических преданий о происхождении человека, грехопадении, спасении, рае, аде и проч.
Таким образом, православность человека определяется не истинностью/ложностью верований, а его личной историей. В такой же ситуации находятся и мусульмане, и синтоисты, и буддисты, и атеисты и проч. То есть ре-ортодоксия даёт возможность их примирения, но не смешения воедино. Ре-ортодоксия не подменяет православие какой-то другой верой, а приглашает увидеть основания вашей веры, предлагая путь её углубления, а также погружения к фундаменту всякого верования (в частности, православного). Это не ещё одна конфессия или религия, а глубинная возможность их «перезагрузки».
Ре-ортодоксия неизбежна при серьёзном углублении в любую конфессиональную теологию и традицию, во что бы вы ни верили. Соответственно, это углубление не отрицает и не разрушает верований или даже суеверий, не отнимает ни единого обряда или традиции, а только выявляет их основания, устанавливая авторство или обнаруживая (не)причастность верующего к положениям его веры.
4. Гносеологические тезы ре-ортодоксии: что мы (не)знаем о Боге?
Ситуация, которая многими религиозными проповедниками описывается как стартовая, по существу, является финальной: мы почти слышим голос Бога, Которого быть никак не может. Проповедники говорят, что это начало пути к Богу, далее окончательно убеждают, что Бог точно есть. Но окончательные убеждения веры это путь схлопывания феномена религии. «Бог, Который точно есть» подмена неопределяемой, неуловимой реальности Бога «объективным» представлением о Нём.
Если быть честными, мы ничего достоверно не знаем о Боге, и поэтому не должны требовать от себя и от других этих знаний. Только смиренное признание этой истины сделает нас свободными от пут теологии (Ин.8:32), как она сделала свободным Христа. Он не зависел ни от сказаний Моисея, ни от преданий и толкований старцев, ни от обрядов, ни от традиций. Что сделало Его таким свободным? Он смотрел реальности в глаза. Реальностью для Него был Отец, Которого Он не совсем понимал, но любил. Накануне распятия Он даже просил избавить Его от Чаши страданий, но закончил: «не Моя воля, но Твоя да будет» (Лк.22:42). То есть две воли (Иисуса и Его Отца), очевидно, тогда разошлись, но любовь соединяла их 10.
Я верю в Бога (Богу) и обращён к Нему, но не могу и не должен знать, Кто Он и каков Он. «Параметры» природы Бога и Его ипостасей не только неустановимы, но и не должны выступать в качестве спасительного знания. Желание знать свойства и «параметры» Бога почти всегда продиктовано стремлением к власти над божеством или власти от имени божества. Тут действует убеждение гностиков в важности таких знаний (греч. γνώσις). Но мы вполне можем обходиться без этого знания, оно бессмысленно, оно нам ничего не «даст».
Правильность говорения о Боге не важна. Само по себе говорение о Боге (на богослужении, в молитве или богословии) имеет другую цель просто побыть с Ним.
Гносеологический 11 принцип ре-ортодоксии может, наконец, «отпустить измученных на свободу» (Лк.4:18) от споров о параметрах божества.
Непознаваемость Бога делает отношения с Ним принципиально непрагматичными (бескорыстными), поскольку Бог не должен быть объектом манипуляций или инструментом достижения цели.
Бог ничем не обусловлен и ни к чему не предназначен. Бог любим! Богообщение подобно восприятию красоты: никто не принуждает внимать ей, и никто не награждается чем-то дополнительно за внимание к ней 12. Всякая подлинная духовная практика не может быть средством достижения чего-либо. Она ценна сама по себе.
Атеисты отрицают рассказ о Боге. Верующие защищают рассказ о Боге. Но и для тех, и для других, если от Бога нет прока, то нет и смысла в Него верить. А что если Бог это Святыня, а не выгода? Тогда Бог становится бесполезен для искателей выгоды и продуктивности, и просто перестаёт для них существовать.
Классическое православие (т.е. «ортодоксия» эпохи Вселенских Соборов) подошло к концу второго тысячелетия с серьёзным грузом проблем, неразрешимых в рамках привычных богословских формул и установок.
Ранее мной уже был предложен «набросок внутренней реформы» 1 с рядом конкретных шагов по «перезагрузке» православной духовности.
Ре-ортодоксия это способ «перезагрузки» классической ортодоксии без потери её сути жизни с Богом. Она предлагается тем, кто находится в процессе перехода от архаичных форм мышления к актуальным, которыми мы руководствуемся как современные люди.
Средневековые религиозные представления воспроизводили структуру социальных отношений своего времени и во многом отражали тогдашние мифологические и натурфилософские представления о человеческой природе. Например, болезни и стихийные бедствия чётко связывали с людскими грехами. Сегодня мы не можем не замечать того, что эта спекулятивная идея является пережитком античного мышления о богах и их страстных взаимоотношениях с людьми 2.
Ре-ортодоксия это разворот к реальному Богу, без каких-либо условий, якобы обязательных для богообщения, без стилизации под понравившийся эталон благочестия, без привязки к «истинной» церковной юрисдикции, санкционирующей передачу благодати и подлинность священнодействий.
Православие неоднородно. Одни проживают его как наследники и хранители чудесного феномена Античности и Средневековья, другие ориентируются на церковный уклад Синодального периода, третьи ищут Бога и взывают к Нему на языке современности, кто-то силится вобрать в себя всё одновременно. И, естественно, у православных различных типов религиозной жизни 3 кризис веры выглядит по-разному. При этом у подавляющего большинства православных никакого кризиса нет, и (слава Богу!) им неведомы проблемы, которые решает ре-ортодоксия.
Проект «перезагрузки» православной веры предназначен главным образом для тех, кто поверил либерально-православной проповеди ХХ века, голосами которой были прот. Александр Мень, прот. Александр Шмеман, С.И.Фудель, митр. Антоний Сурожский, прот. Иоанн Мейендорф, архим. Киприан (Керн), молодой диакон Андрей Кураев, проф. А.И.Осипов, прот. Алексей Уминский и др. Многие их слушатели, делая когда-то первые шаги в церковной среде, ожидали встретить некое «православие с человеческим лицом». Они поверили в то, что православие это про любовь, взаимоприятие, смирение и духовный путь свв. отцов Добротолюбия. Они надеялись, что период услужения всякой власти позади, что Церковь открыта к восприятию научных и культурных достижений человечества, что она «готова к принятию новых, может быть, более простых, форм богослужения, а лучше сказать, не «новых», а наиболее древних, первохристианских, принадлежащих тому времени, когда над миром поднялась заря Любви» 4, и т.д. и т.п.
Но историческое православие не собиралось меняться и не должно было меняться. Поэтому многим теперь приходится переосмысливать для себя понятие «православие»: одни обращаются к средневековым шаблонам Церкви и пользуются её наследием по своему усмотрению, применяя из многоликой традиции то, что им подходит в текущий момент, другие пытаются из позиции либерализма идти куда-то дальше
Чтобы не впасть в атеизм или агностицизм 5 (и то, и другое критически упрощает человека и мир), ре-ортодоксия делает шаг в сторону апофатической 6 части православного Предания. И хотя догматически это допустимый и верный шаг, последователей практической апофатики было крайне мало. Апофатические размышления в историческом православии остались инородным телом, не включённым ни в одно цельное богословское суждение.
Как и всякая подлинная апофатика, ре-ортодоксия не отрицает обрядовой и учительной части Предания. Она лишь меняет статус («музыкальный ключ») умозрительных положений богословия, выявляя их социально-психологическую и экзистенциальную природу, т.е. показывает, как они связаны с жизнью людей и их внутренним миром. Ре-ортодоксия отнимает только репрессивность каждого положения веры и религии. При этом и для отдельного человека, и для двух или трёх, собранных во имя Моё (ср. Мф.18:20), и для большой общины верующих Писание и Предание могут служить только полем встречи с Богом.
2. Принцип ре-ортодоксии
Ре-ортодоксия это возвращение к самым истокам, к самому началу духовного пути: к пути Савла в Дамаск, к пути Нафанаила к Иисусу, к пути отца, возопившего к Нему о вере. Это не является восстановлением какого-то утраченного нами «золотого века» христианства. Ре-ортодоксия это возможность, не стыдясь, ссылаться на личный опыт Бога подобно тому, как на него ссылался ап. Иоанн 7. Ре-ортодоксия ориентирована на то, «что было от начала, что мы слышали, что видели своими очами, что рассматривали и что осязали руки наши, о Слове жизни, ибо жизнь явилась, и мы видели и свидетельствуем, и возвещаем вам сию вечную жизнь, которая была у Отца и явилась нам» (1Ин.1:1-2).
Ре-ортодоксия предлагается как метод углубления православия. Любой религиозный тезис становится ре-ортодоксальным, если он начинается со слов «я решил, что» или «моя культура и личная история обусловили моё убеждение (или мою веру) в то, что» Это достигается поверкой данного тезиса простым вопросом «кто и каким образом это установил?»
Если человек считает, что положения его веры определила его личная психо-история (путь травм, защит и преодолений) и культура, в которой он рос, то он непричастен своим верованиям, так как за него сделали выбор традиция и случай. Осознание этого не даст ему спорить о правоте и обвинять другого. Потому что он понимает, что у того (другого) примерно та же картина созидания мировоззрения. В свою очередь, если человек считает, что объявить нечто священным его личное решение, то это святой волюнтаризм. И то, и другое ре-ортодоксально, потому как в обоих случаях человек осознанно обнаруживает основания (или безосновательность) своих и чужих религиозных убеждений.
Очевидно, что классический ортодокс находится в иной ситуации ему не нужно ничего осознавать и решать, за него уже всё решила «самая истинная» религиозная традиция. Для него истина очевидна или объективно доказана. В его картине мира обязательно положение об исключительности его религиозных истин, поэтому ему приходится всерьёз воевать за них и обвинять всех, кто им противоречит.
По своей сути, ре-ортодоксия всего лишь погружение к основаниям. Это как открыть капот автомобиля и разобраться в том, как там взаимодействуют механизмы. Если это не вызывает психологического сопротивления (не девальвирует «магию движения» автомобиля), то неплохо бы это знать. То же и с психикой человека, и с его религиозностью. Даже в личном осознанном решении «личность» и «осознанность» в основном состоят из культурных паттернов и индивидуальной психологической истории. Это вовсе не означает, что человек полностью механистичен (о чём заявлял Ж.Ламетри 8). Мы постулируем, что в человеке есть свобода воли. И хотя она минимальна, но для нас предельно значима.
3. Проверка на ре-ортодоксию
Ре-ортодоксия это личное свободное решение верить, при полном осознании того, что это верование невероятно, фантастично, случайно, регионально 9 и имеет против себя сильные аргументы. Т.е. «я решил верить вопреки очевидности того, что это абсурд или может быть чьей-то фантазией».
При попытке выяснить, кем и как это верование было установлено, обнаруживается, что у него нет твёрдых оснований, как и у всех прочих религиозных верований. Тот же, кто будет отстаивать вероятность или фактичность того или иного верования, встретится с противоположными научными доводами. Честность учёного вынудит христианина согласиться с безосно́вностью своих верований. Но вера христианина сохранит религиозные тезисы в качестве волюнтаристских тезисов ре-ортодоксии.
Итак, любой богословской идее предлагается вопрос «кто и как это установил?» Допустим, на вопрос «является ли Христос Богом?» один человек отвечает: «я решил, что является», а другой человек говорит: «за меня решила моя православная традиция, и мне проще согласиться с ней, чем сопротивляться». И в первом, и во втором случае мы видим достаточную степень осознанности, а значит, оба эти ответа ре-ортодоксальны.
Таким же ре-ортодоксальным является утверждение «я решил верить тому, что написано в Библии, а тому, что написано в Бхагаватгите, я решил не верить».
Рассмотрим пример того, как столкновение разных космогоний (весьма авторитетных и самоочевидных для многих народов, племён и времён) демонстрирует эту безосно́вность веры в любую конкретную модель творения неба и земли. Здесь возможен примерно такой диалог:
Ортодокс: «Бог сотворил небо и землю».
Ре-ортодокс: «Я этого ничуть не отрицаю. Вопрос: кто и как это установил?»
Ортодокс: «В Библии написано, что Моисею Сам Бог это сказал».
Ре-ортодокс: «А почему Вы не верите другим книгам, где тоже написано, что это сказал Сам Бог?»
Ортодокс: «Потому что я принадлежу определённой религиозной культуре. Традиция так определила, и я ей доверяю».
Ре-ортодокс: «Почему ей, а не другой?»
Ортодокс: «Эта мне ближе, а других я толком не знаю. Так сложилось»
Тот же результат мы можем получить, разбирая конфликты разных теологических преданий о происхождении человека, грехопадении, спасении, рае, аде и проч.
Таким образом, православность человека определяется не истинностью/ложностью верований, а его личной историей. В такой же ситуации находятся и мусульмане, и синтоисты, и буддисты, и атеисты и проч. То есть ре-ортодоксия даёт возможность их примирения, но не смешения воедино. Ре-ортодоксия не подменяет православие какой-то другой верой, а приглашает увидеть основания вашей веры, предлагая путь её углубления, а также погружения к фундаменту всякого верования (в частности, православного). Это не ещё одна конфессия или религия, а глубинная возможность их «перезагрузки».
Ре-ортодоксия неизбежна при серьёзном углублении в любую конфессиональную теологию и традицию, во что бы вы ни верили. Соответственно, это углубление не отрицает и не разрушает верований или даже суеверий, не отнимает ни единого обряда или традиции, а только выявляет их основания, устанавливая авторство или обнаруживая (не)причастность верующего к положениям его веры.
4. Гносеологические тезы ре-ортодоксии: что мы (не)знаем о Боге?
Ситуация, которая многими религиозными проповедниками описывается как стартовая, по существу, является финальной: мы почти слышим голос Бога, Которого быть никак не может. Проповедники говорят, что это начало пути к Богу, далее окончательно убеждают, что Бог точно есть. Но окончательные убеждения веры это путь схлопывания феномена религии. «Бог, Который точно есть» подмена неопределяемой, неуловимой реальности Бога «объективным» представлением о Нём.
Если быть честными, мы ничего достоверно не знаем о Боге, и поэтому не должны требовать от себя и от других этих знаний. Только смиренное признание этой истины сделает нас свободными от пут теологии (Ин.8:32), как она сделала свободным Христа. Он не зависел ни от сказаний Моисея, ни от преданий и толкований старцев, ни от обрядов, ни от традиций. Что сделало Его таким свободным? Он смотрел реальности в глаза. Реальностью для Него был Отец, Которого Он не совсем понимал, но любил. Накануне распятия Он даже просил избавить Его от Чаши страданий, но закончил: «не Моя воля, но Твоя да будет» (Лк.22:42). То есть две воли (Иисуса и Его Отца), очевидно, тогда разошлись, но любовь соединяла их 10.
Я верю в Бога (Богу) и обращён к Нему, но не могу и не должен знать, Кто Он и каков Он. «Параметры» природы Бога и Его ипостасей не только неустановимы, но и не должны выступать в качестве спасительного знания. Желание знать свойства и «параметры» Бога почти всегда продиктовано стремлением к власти над божеством или власти от имени божества. Тут действует убеждение гностиков в важности таких знаний (греч. γνώσις). Но мы вполне можем обходиться без этого знания, оно бессмысленно, оно нам ничего не «даст».
Правильность говорения о Боге не важна. Само по себе говорение о Боге (на богослужении, в молитве или богословии) имеет другую цель просто побыть с Ним.
Гносеологический 11 принцип ре-ортодоксии может, наконец, «отпустить измученных на свободу» (Лк.4:18) от споров о параметрах божества.
Непознаваемость Бога делает отношения с Ним принципиально непрагматичными (бескорыстными), поскольку Бог не должен быть объектом манипуляций или инструментом достижения цели.
Бог ничем не обусловлен и ни к чему не предназначен. Бог любим! Богообщение подобно восприятию красоты: никто не принуждает внимать ей, и никто не награждается чем-то дополнительно за внимание к ней 12. Всякая подлинная духовная практика не может быть средством достижения чего-либо. Она ценна сама по себе.
Атеисты отрицают рассказ о Боге. Верующие защищают рассказ о Боге. Но и для тех, и для других, если от Бога нет прока, то нет и смысла в Него верить. А что если Бог это Святыня, а не выгода? Тогда Бог становится бесполезен для искателей выгоды и продуктивности, и просто перестаёт для них существовать.

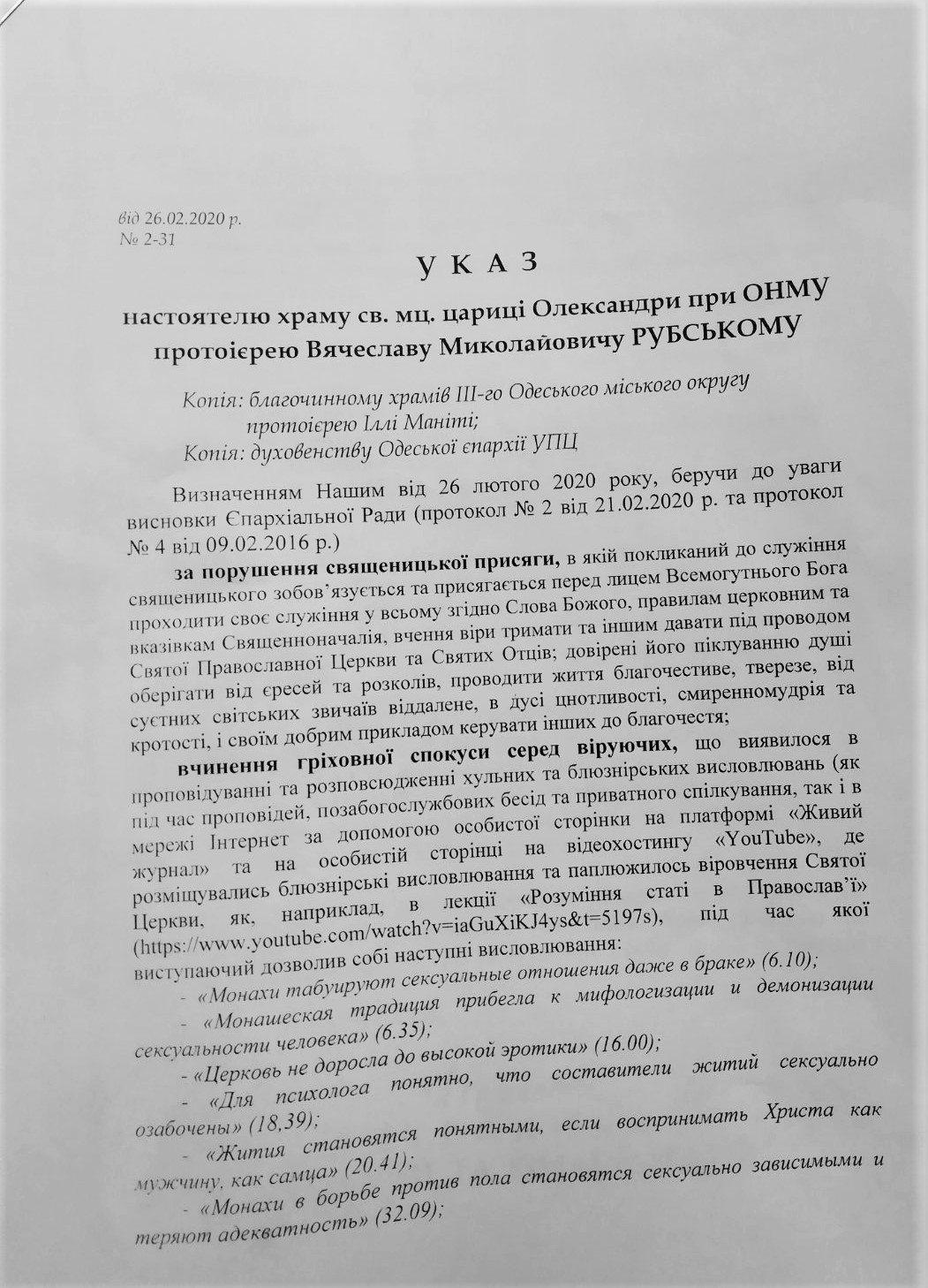
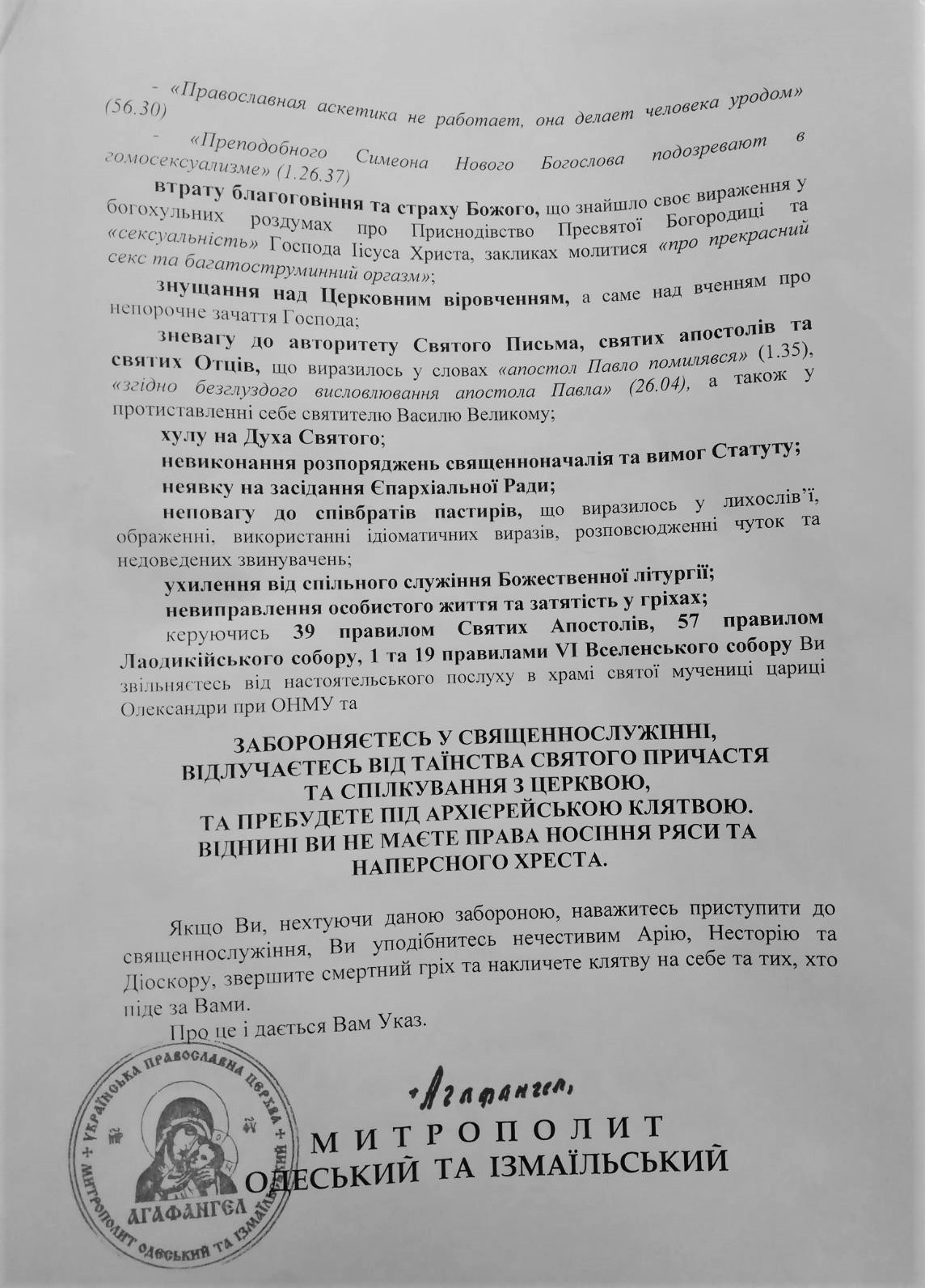



Комментарий