Я не понял, что Вам нужно. Паспортные данные? Извините, нет. Правоохранительным органам они так и известны (они вообще всё знают про всех, работа у людей такая, им за это деньги платят), а перед Вами я отчитываться вообще не обязан. Потому что Вы для меня никто и звать Вас никак.
Посидите в игноре.
PS: Церкви Англии моё сочувствие без надобности: они и без него прекрасно справлются. Я не понимаю, чего Вы от меня хотите. Ну, украинские церкви мне нравятся еще -- там порядка больше. Не без славянской разухабистости, но в более-менее цивилизованных пределах. Украинцам я тоже, ээээ... "Сочувствую", как Вы изволили выразиться, как видите. Еще мне нравится несколько церквей в Румынии, например.
Посидите в игноре.
PS: Церкви Англии моё сочувствие без надобности: они и без него прекрасно справлются. Я не понимаю, чего Вы от меня хотите. Ну, украинские церкви мне нравятся еще -- там порядка больше. Не без славянской разухабистости, но в более-менее цивилизованных пределах. Украинцам я тоже, ээээ... "Сочувствую", как Вы изволили выразиться, как видите. Еще мне нравится несколько церквей в Румынии, например.

 Автор:
Автор:  Летом 1971 года исследовательской группой Стэнфордского Университета во главе с
Летом 1971 года исследовательской группой Стэнфордского Университета во главе с 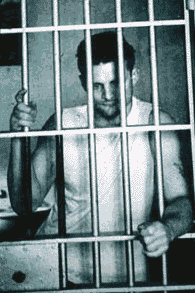 Имитация тюремной жизни была такой успешной (исследователи прибегли к помощи настоящей полиции, построили в университете камеры и коридоры, провели над "заключенными" ряд унизительных процедур, заковали их в цепи и присвоили каждому идентификационный номер), что запланированный двухнедельный эксперимент был, в результате, прерван на седьмые сутки. По словам Филиппа Зимбардо, уже через несколько дней "тюремщики" превратились в настоящих садистов, а "заключенные" пришли в крайне подавленное состояние.
Имитация тюремной жизни была такой успешной (исследователи прибегли к помощи настоящей полиции, построили в университете камеры и коридоры, провели над "заключенными" ряд унизительных процедур, заковали их в цепи и присвоили каждому идентификационный номер), что запланированный двухнедельный эксперимент был, в результате, прерван на седьмые сутки. По словам Филиппа Зимбардо, уже через несколько дней "тюремщики" превратились в настоящих садистов, а "заключенные" пришли в крайне подавленное состояние.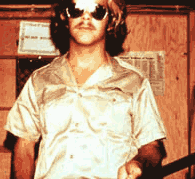 Сайт также содержит раздел "Discussion Questions", где предлагается ряд вопросов для обсуждения: какие процедуры применяются полицейскими при задержании, и как они влияют на самочувствие задержанных? Как бы Вы себя вели, работай Вы охранником в тюрьме? Как Вы считаете, каковы были бы последствия, если в качестве испытуемых были выбраны, скажем, женщины? Насколько этично вообще было проводить этот эксперимент?
Сайт также содержит раздел "Discussion Questions", где предлагается ряд вопросов для обсуждения: какие процедуры применяются полицейскими при задержании, и как они влияют на самочувствие задержанных? Как бы Вы себя вели, работай Вы охранником в тюрьме? Как Вы считаете, каковы были бы последствия, если в качестве испытуемых были выбраны, скажем, женщины? Насколько этично вообще было проводить этот эксперимент?




 Постер к фильму Эксперимент
Постер к фильму Эксперимент
Комментарий